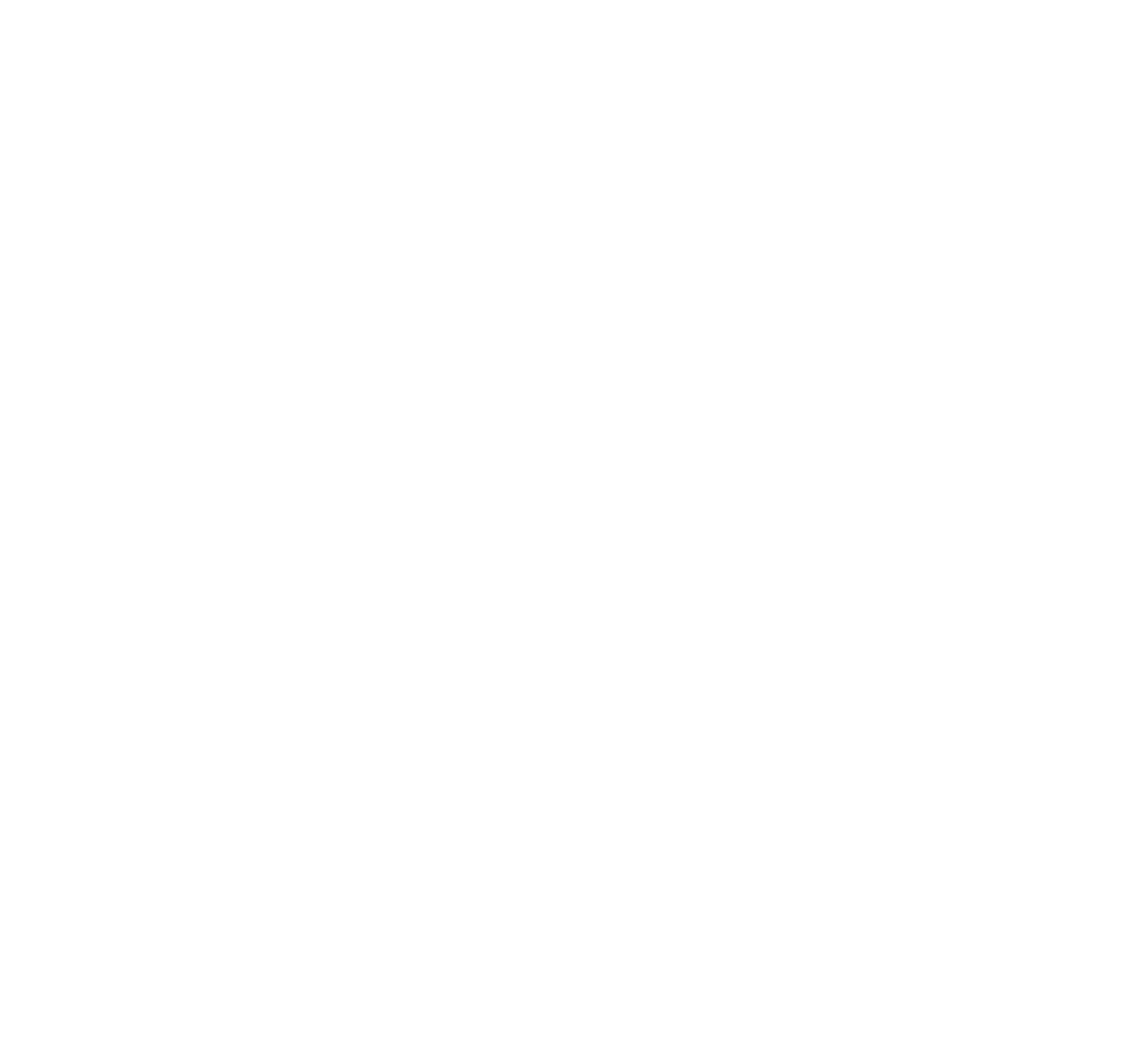Александр Колмановский
Мамина работа
Уже поздно. Давно пора ложиться, завтра насыщенный день. Если не высплюсь, будет плохо. А я всё сижу за компьютером, то бессмысленно играя в шарики, которые лопаются при точном попадании, то не менее бессмысленно шаря по Интернету. Голова тяжелеет, моя преступность перед здравым смыслом делается всё более непростительной. Надо взять себя в руки, пойти умыться, постелить. Надо, но нет сил. Всё плывёт перед глазами…
… и я представляю себе, что мама не умерла тогда, много лет тому назад, а осталась жива. Она видит всё, что произошло с тех пор. Знает, какой я стал – ироничный, насмешливый. Как язвительно критикую людей. Понимает, в каком напряжении я из-за этого нахожусь ежечасно, ежедневно, проживая жизнь, таким образом, «мимо».
Что значит «мимо»? Не глуп, не беден, не урод. Счастлив в своих детях. Окружён замечательными людьми, достойными, интересными. Люблю людей, и не только таких, и, кажется, это взаимно. Остро чувствую красоту мира: тосканские соборы, карельские скалы, симфонические концерты. Чувствую сродство с природой вещей, в свои в общем-то уже годы сравнительно легко осваиваю новые навыки. Наконец, посчастливилось найти свою профессию.
Умом понимаю, что радоваться бы да радоваться. Не могу. Напряжение не отпускает. Не могу быть простодушным ни с людьми, ни с самим собой. Это и значит жить «мимо».
И вот в моём воображении мама это каким-то образом понимает. В моём воображении она обладает психологическим рентгеном. Мне не приходится пускаться в откровенности, она сама всё видит.
Больше того: мама понимает, что моё напряжение связано с её прошлым отношением ко мне. Она знает, откуда растёт моя боязнь людей: из страха перед перед ней. Это я получил из её рук, впитал с её молоком. В моём сне она поняла то, чего ей не довелось понять при жизни: назидательность матери заставляет сына защищаться всю жизнь, уродует, как вывих тазобедренного сустава.
Суставный вывих искажает походку. Психологический вывих искажает жизненную траекторию. Это только кажется, что раздражительный человек может взять и перестать одёргивать всех вокруг. Не может, как хромой не может идти ровно. Моё воображение продолжает рисовать желанные картины. Мама охвачена раскаянием. Она вспоминает всё, что было. Как кричала на меня. Угрожала, что сдаст в «детскую колонию», когда я, 7-летний, тайком искупался в море. Демонстративно собирала в чемодан мои вещички. Оцепенев, я ничего не чувствовал и молчал, чем ещё больше выводил её из себя. Била за самовольную прогулку под дождём, загнав в угол комнаты. Удары правой и левой руками равномерно чередовались, а я в том же ритме (и в том же оцепенении) механически поднимал руки, защищаясь то слева, то справа. В наказание за что-то оставляла меня дома, когда вся семья шла на такой лакомый концерт Аркадия Райкина. Высмеивала, называла «Шмерл-дерзаконник» (кажется, это было цитатой из Шолом-Алейхема), когда я, пытаясь как-то оспорить приговор, от бессилия по-детски пускался в демагогию.
Мама вспоминает это всё и, бедная, сама приходит в ужас. Рыдает: «Сынок, я не ведала, что творила. Я так любила тебя, я готова была пойти на всё, лишь бы тебе было хорошо. Я не понимала, что тебе будет так плохо. Знай, верь, что во всех тех случаях мне самой было очень плохо. Мне вообще непросто жилось, ты был маленьким и не мог этого знать». Конечно, мама именно так всё и сказала бы. И тогда меня бы наконец отпустило. Ушла бы гнетущая тяжесть, прояснилась бы голова, расслабились бы вечно поджатые губы.
Я с надеждой представляю себе эту сцену – и с грустью убеждаюсь, что ничего такого не происходит. Уловка воображения не работает.
Вижу, слышу мамины правильные слова, верю в её раскаяние, а лучше мне не становится. Не исчезает угнетение, не распускаются в улыбке губы. Не светлеет за окном.
Годы детских страхов, продлённые годами воспоминаний о них, не уравновешиваются никакими, даже самыми правильными словами.
Как же быть? Что же могла бы мама сделать, чтобы отработать свой вклад? Как вправить вывих? Видимо, надо было бы что-то именно сделать. Не просто сказать, а как-то поступить.
Какие поступки могут выразить раскаяние? Я начинаю воображать, как мама ухаживает за мной. Как она не кричит из кухни: «Сколько можно тебя звать, всё остыло!», а приносит в кабинет чай с бутербродами, осторожно, чтобы не помешать моей работе, ставя поднос на стол. Укутывает мне колени пледом. Делает потише телевизор. Не зовёт меня к телефону. Уважительно говорит обо мне со знакомыми, подчёркивая мою положительность.
Придаёт мне значение, которого так не хватило в детстве. Как приятно! Я с надеждой представляю себе эти сцены, понимая, что теперь-то сработает, и меня отпустит. Не срабатывает. Не отпускает. Мама в моём воображении суетится вокруг меня, заботится, хвалит, а мне всё угрюмо. Сижу за столом, принимаю её хлопоты, как должное, и жду, чтобы она скорей вышла из комнаты, а я смог бы вернуться к шарикам. Бутерброды и искреннее признание моих достоинств почему-то не перевешивают того, что когда-то она эти достоинства отрицала. Её дружелюбная, виноватая улыбка не вытесняет в моей памяти ту искажённую гримасу в углу комнаты.
Как же быть? Значит, мы оба обречены на непрощённую вину? Ночь идёт. Мы оба устали – я и воображаемая мама. Мне делается всё безразлично. Я откровенно переключаю экран компьютера на игру, пусть видит. Хуже не будет, хуже некуда. Мама здесь. Она видит, какими пустыми глазами я пялюсь в экран, как одержимо щёлкаю клавишами. Понимает, как я пытаюсь вымучить ещё хоть какое-то удовольствие из уходящих суток. И как виновато себя при этом чувствую. Маме становится меня жаль – не вообще, не исторически, а вот прямо здесь. Сейчас она не гордится моими достижениями – она видит, как уродливо я хромаю, и понимает, что я не выбирал себе этой походки. Мама испытывает желание стать моим костылём. Костыль – это не красиво, но раз уж человек хромой… Костыль – это лучше, чем объяснения, как надо правильно ставить ноги.
Мама опять идёт на кухню за бутербродами и чаем, но не с тем, чтобы мне хорошо работалось, а просто чтобы мне было хорошо. Я вижу, что она ухаживает за мной не в расцвете моего благополучия, а в моей опущенности. Не когда меня приветствуют, аплодируют на выступлениях, публикуют в газетах, а когда я преступно сорю временем, здоровьем, трачу на ерунду деньги, которых не хватает на жизнь. Когда шиплю на домашних и раздражённо хлопаю дверью. Она понимает, что это не я плохой, а мне плохо. И пытается сделать мне хорошо. Не объясняет, что давно пора спать, а склоняется, чтобы поцеловать мою дурную сонную голову. «Промахнулся», - улыбается мама, глянув на игровое поле. Я тоже невольно улыбаюсь и от этого просыпаюсь. За окном светает. Выспаться точно не получится. Но, кажется, это уже не так страшно».
… и я представляю себе, что мама не умерла тогда, много лет тому назад, а осталась жива. Она видит всё, что произошло с тех пор. Знает, какой я стал – ироничный, насмешливый. Как язвительно критикую людей. Понимает, в каком напряжении я из-за этого нахожусь ежечасно, ежедневно, проживая жизнь, таким образом, «мимо».
Что значит «мимо»? Не глуп, не беден, не урод. Счастлив в своих детях. Окружён замечательными людьми, достойными, интересными. Люблю людей, и не только таких, и, кажется, это взаимно. Остро чувствую красоту мира: тосканские соборы, карельские скалы, симфонические концерты. Чувствую сродство с природой вещей, в свои в общем-то уже годы сравнительно легко осваиваю новые навыки. Наконец, посчастливилось найти свою профессию.
Умом понимаю, что радоваться бы да радоваться. Не могу. Напряжение не отпускает. Не могу быть простодушным ни с людьми, ни с самим собой. Это и значит жить «мимо».
И вот в моём воображении мама это каким-то образом понимает. В моём воображении она обладает психологическим рентгеном. Мне не приходится пускаться в откровенности, она сама всё видит.
Больше того: мама понимает, что моё напряжение связано с её прошлым отношением ко мне. Она знает, откуда растёт моя боязнь людей: из страха перед перед ней. Это я получил из её рук, впитал с её молоком. В моём сне она поняла то, чего ей не довелось понять при жизни: назидательность матери заставляет сына защищаться всю жизнь, уродует, как вывих тазобедренного сустава.
Суставный вывих искажает походку. Психологический вывих искажает жизненную траекторию. Это только кажется, что раздражительный человек может взять и перестать одёргивать всех вокруг. Не может, как хромой не может идти ровно. Моё воображение продолжает рисовать желанные картины. Мама охвачена раскаянием. Она вспоминает всё, что было. Как кричала на меня. Угрожала, что сдаст в «детскую колонию», когда я, 7-летний, тайком искупался в море. Демонстративно собирала в чемодан мои вещички. Оцепенев, я ничего не чувствовал и молчал, чем ещё больше выводил её из себя. Била за самовольную прогулку под дождём, загнав в угол комнаты. Удары правой и левой руками равномерно чередовались, а я в том же ритме (и в том же оцепенении) механически поднимал руки, защищаясь то слева, то справа. В наказание за что-то оставляла меня дома, когда вся семья шла на такой лакомый концерт Аркадия Райкина. Высмеивала, называла «Шмерл-дерзаконник» (кажется, это было цитатой из Шолом-Алейхема), когда я, пытаясь как-то оспорить приговор, от бессилия по-детски пускался в демагогию.
Мама вспоминает это всё и, бедная, сама приходит в ужас. Рыдает: «Сынок, я не ведала, что творила. Я так любила тебя, я готова была пойти на всё, лишь бы тебе было хорошо. Я не понимала, что тебе будет так плохо. Знай, верь, что во всех тех случаях мне самой было очень плохо. Мне вообще непросто жилось, ты был маленьким и не мог этого знать». Конечно, мама именно так всё и сказала бы. И тогда меня бы наконец отпустило. Ушла бы гнетущая тяжесть, прояснилась бы голова, расслабились бы вечно поджатые губы.
Я с надеждой представляю себе эту сцену – и с грустью убеждаюсь, что ничего такого не происходит. Уловка воображения не работает.
Вижу, слышу мамины правильные слова, верю в её раскаяние, а лучше мне не становится. Не исчезает угнетение, не распускаются в улыбке губы. Не светлеет за окном.
Годы детских страхов, продлённые годами воспоминаний о них, не уравновешиваются никакими, даже самыми правильными словами.
Как же быть? Что же могла бы мама сделать, чтобы отработать свой вклад? Как вправить вывих? Видимо, надо было бы что-то именно сделать. Не просто сказать, а как-то поступить.
Какие поступки могут выразить раскаяние? Я начинаю воображать, как мама ухаживает за мной. Как она не кричит из кухни: «Сколько можно тебя звать, всё остыло!», а приносит в кабинет чай с бутербродами, осторожно, чтобы не помешать моей работе, ставя поднос на стол. Укутывает мне колени пледом. Делает потише телевизор. Не зовёт меня к телефону. Уважительно говорит обо мне со знакомыми, подчёркивая мою положительность.
Придаёт мне значение, которого так не хватило в детстве. Как приятно! Я с надеждой представляю себе эти сцены, понимая, что теперь-то сработает, и меня отпустит. Не срабатывает. Не отпускает. Мама в моём воображении суетится вокруг меня, заботится, хвалит, а мне всё угрюмо. Сижу за столом, принимаю её хлопоты, как должное, и жду, чтобы она скорей вышла из комнаты, а я смог бы вернуться к шарикам. Бутерброды и искреннее признание моих достоинств почему-то не перевешивают того, что когда-то она эти достоинства отрицала. Её дружелюбная, виноватая улыбка не вытесняет в моей памяти ту искажённую гримасу в углу комнаты.
Как же быть? Значит, мы оба обречены на непрощённую вину? Ночь идёт. Мы оба устали – я и воображаемая мама. Мне делается всё безразлично. Я откровенно переключаю экран компьютера на игру, пусть видит. Хуже не будет, хуже некуда. Мама здесь. Она видит, какими пустыми глазами я пялюсь в экран, как одержимо щёлкаю клавишами. Понимает, как я пытаюсь вымучить ещё хоть какое-то удовольствие из уходящих суток. И как виновато себя при этом чувствую. Маме становится меня жаль – не вообще, не исторически, а вот прямо здесь. Сейчас она не гордится моими достижениями – она видит, как уродливо я хромаю, и понимает, что я не выбирал себе этой походки. Мама испытывает желание стать моим костылём. Костыль – это не красиво, но раз уж человек хромой… Костыль – это лучше, чем объяснения, как надо правильно ставить ноги.
Мама опять идёт на кухню за бутербродами и чаем, но не с тем, чтобы мне хорошо работалось, а просто чтобы мне было хорошо. Я вижу, что она ухаживает за мной не в расцвете моего благополучия, а в моей опущенности. Не когда меня приветствуют, аплодируют на выступлениях, публикуют в газетах, а когда я преступно сорю временем, здоровьем, трачу на ерунду деньги, которых не хватает на жизнь. Когда шиплю на домашних и раздражённо хлопаю дверью. Она понимает, что это не я плохой, а мне плохо. И пытается сделать мне хорошо. Не объясняет, что давно пора спать, а склоняется, чтобы поцеловать мою дурную сонную голову. «Промахнулся», - улыбается мама, глянув на игровое поле. Я тоже невольно улыбаюсь и от этого просыпаюсь. За окном светает. Выспаться точно не получится. Но, кажется, это уже не так страшно».
Александр Колмановский, 2006
Если вы ещё не знакомы с Александром Колмановским, то можно начать с этого видео.
ФАКУЛЬТЕТЫ